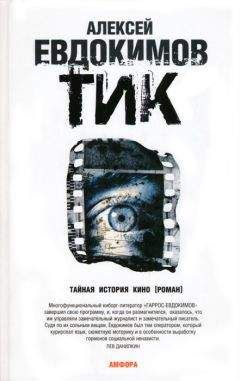Вадим свернул на Лачплеша — наблюдатели и комментаторы сыпались следом из-за угла, указуя и взывая. Тут из подворотни, наперерез, поперла новая толпа — в «Дайле» кончился сеанс. Вадим ввинтился, извините, смешался, пардон, под прикрытием (этим сообществом владел, к счастью, не он, а Джим Керри) просочился во двор кинотеатра. Справа, у кирпичного забора с обгрызенным верхним краем, обосновалась выездная сессия факультета ненужных вещей, эмбрион свалки — выпотрошенный шкафчик для пожарного инвентаря с сетчатыми дверцами, досрочно уволенная домашняя елка, на полуобсыпанной лапе — лаковая деревянная вешалка; внизу, в прокопченном смерзшемся сугробе: фанера, шифер, размокшая бумага. Поверх оббитого заборного среза сонно смотрели обветренные теремки-мансарды дощатой халупы. Вадим попробовал шкафчик — держится, подсадил баул, дрыгнувшись, заволок на жестяной скат халупы себя. Потрусил, балансируя, по гремучему козырьку, чуть не сверзился… Дворик. Сумку вперед, громко, но стрематься некому, помойным контейнерам по барабану. Вадим спрыгнул сам, миновал еще одну подворотню — и оказался на Блауманя. Он пошел уже неторопливо, прогулочно, догулял до Тербатас, по ней, мимо Кабинета министров, до «Вернисажа» — пошловатейшее зданьице клуба пиарили разноцветные прожектора, — мимо главного корпуса Университета, через скверик у Городского канала — к «лаймовским» часам. На середине культовой площади, неизменного, неизменно заселенного ожидающими места встреч, вспомнил про подключенную к Сети телекамеру. Вот сейчас Вадим Аплетаев, разыскиваемый, наверняка, растиражированный по числу нитей Всемирной Паутины, бредет в режиме он-лайн на виду у всего мира через интернетовский портал… В этот момент с басовитым металлическим гудением — ногтем вдоль толстой гитарной струны — пришли в движение колбы часов, двухметровые, мутноватого дюймового кварцевого стекла, забранного в окислившиеся медные рамы, — поменялись местами: синяя оказалась сверху, красная снизу. Крошечные монетки в один сантим, кванты песочного времени, устремились в узкую горловину. На узорчатом металлическом циферблате дрогнула тяжелая стрелка, сместилась на римскую шестерку — восемнадцать ноль-ноль. А таймер внутри Вадима уже торопился дальше: 32.00.00… 31.59.59… 31.59.58…
Алексс Альохинс. Сотрудник Службы защиты Сатверсме. Надежда и опора. Опора правопорядка. И законности, само собой. Щит и меч Второй Республики. Господин контрразведчик. Ну-ну. Вадим пролистал паспорта и вертел теперь в руках корочки, придирчиво разглядывая печати, в которых все равно ни бельмеса не петрил. Плотный конверт — две синие гражданские паспортины, два удостоверения конституционщиков, сопроводительные бумаги к дипбагажу, — притаранила обыкновеннейшая мочалка несущественного возраста: короткие выбеленные волосы, нос уточкой, джинсы с бахромой, в ухо воткнут наушник MD-плейера. Мочалка пришла одна и ушла одна, но пока она привычно-быстро апробировала протянутую Вадимом пачечку, он заметил стоптанные в ударопрочные набойки костяшки пальцев. Откуда набитые кентуса у хакера? Или у крэкера — как там они правильно называются… Через границу с ними можно? Запросто, не спалишься, они и в полицейском компьютере, и в ДГИ. Лучше, чем настоящие. Но обратно по ним въезжать не советую. Так, на всякий. А я обратно не собираюсь… А также Инесе Аузиня, cотрудница Службы защиты Сатверсме. Вадим хмыкнул. Поднял глаза на синхронный скрип двух легких старорежимно-совдеповских, дачного пошиба деревянных стульев — отодвигаемого напротив и придвигаемого от свободного концептуально потертого тейбла. Вадимова нога под столом подгребла поближе черную сумку — впрочем, одного беглого взгляда на новых самозванных соседей хватило, чтобы понять: никакого отношения к официальным, полуофициальным или неофициальным силовым структурам эти клоуны иметь не могут. Вадим осмотрелся. По дневному времени стильный рок-н-ролльный кабак с маркесовским названием «Полковнику никто не пишет» был почитай что пуст; только один нестильный мужик энергично грузил другого за правым вадимовым плечом. За круглым бруствером стойки в центре зала бармен в черном свитере упражнялся в первом древнейшем искусстве всех барменов: сняв с похожей на вертолетный ротор полки без малого опорожненный литровый водочный баллон, крутил его в пальцах, подбрасывал, ловил за горлышко. Ловил раза три из четырех. Правда, стекло было крепкое.
11.14.32… 11.14.31…
…Первый с виду — гопота гопотой: молодой совсем, здоровый, быковатый, подкачанный, краткостриженный. Только черты маловыразительного фэйса не нагло-развесистые, как у классических районных гоблинов на выебоне — а собранные, поджатые, озабоченно-сосредоточенные, будто их обладатель каждую секунду рискует обкакаться. Второй — полнейший контраст: невысокий, узкоплечий, не младше Вадима; тонким, вполне интеллигентным личиком и длинным лайковым пальто сильно смахивает на «голубца». Впрочем, если он и был пэдэ — очень даже не исключено — то латентным, подавленным, РАЗдавленным, расплющенным просто… — Вадим почти сразу понял все за этих двоих. Как только увидел под расстегнутой курткой «гоблина» красную майку с белым кругом на груди, и в круге том а-ля свастика на знамени Третьего рейха — черные серп с молотом. И надпись под всем этим: «Накоси и забей.» Перед Вадимом сидели редкие и довольно экзотические звери — политические маргинал-радикалы. Чегевары нашей песочницы.
— Джентльмены, — заметил Вадим нелюбезно. — Я вас не приглашал.
Узкоплечий лайковый че спокойно положил на столешницу неновый «эрикссон» с желтой панелью.
— У тебя лунинские бабки, — говорил он небрежно, но голос, ораторский, хорошо поставленный, все равно брал свое, отзвякивая на ударных слогах. — Ты отдашь их нам. Прямо сейчас. Отвезешь нас туда, где их оставил, и выдашь все по описи. Или, — он кивнул на мобилу, — я звоню в полицию. Прямо сейчас.
Интересно, витьковы приятели сами меня вам сдали? Почему вам? Или вы по тусовочно-неформальному знакомству прослышали, сопоставили, проследили?
— …если ты хочешь делать за серьезный бизнес, — неслось тем временем из-за правого плеча, — нет, ты понимаешь, ты должен четко отдавать себе отчет, серьезный бизнес, не какое-то фуфло, типа капусты срубил и с блядьми в клубе-три проквасил, а настоящее дело…
Клоуны глядели на Вадима в упор. Младший как солдат на вошь, старший — как генерал от инфантерии на гниду. Этих карманных чегевар из данной и подобных ей партий, фракций и боевых групп он еще со своих колумнистских времен неплохо знал и сильно не жаловал. И даже посвятил им несколько хлестких аналитических колонок. Их, чегевар, радикализм и агрессия проистекали не от животной нерассуждающей ксенофобии, нахрапистого одноклеточного жлобства, как у типовых постимперских крайне левых или крайне правых. Те были просты и — нет, как раз совершенно НЕпонятны, но эту непонятность и понимать-то не стоило, ее стоило без особых эмоций искоренять — в чисто санитарных, гигиенических целях. Отстрел бешеных собак. Дератизация. Дезинсекция. Соратнички же лайкового че были вовсе не так просты — и куда более понятны. Они-то как раз были едва ли не свои, едва ли не братья по разуму. Они тоже были неглупы и небесталанны, неравнодушны, черт побери, амбициозны; они тоже не желали довольствоваться псевдожизнью, тупым наращиванием жировых денежных клеток. Их синтетическая ницшеанско-бакунинская идеология — запредельно эклектичная, с прибором кладущая на любые логику с этикой и руководствующаяся исключительено эстетикой и эмоциями, — и измыслена, сконструирована была изобретательно, эффектно. Еще бы, ведь изобретали ее умные мальчики из хороших семей, очкарики, ботаники, избранное меньшинство. Один радикального производства плакатик Вадим даже сам прикнопил некогда вызывающего прикола ради к редакционной двери: спецназовский ниндзя в черной маске, пистолетное дуло анфас, алые литеры поверх: ДЕМОКРАТИЯ — ЭТО БОЛЕЗНЬ!, и ниже уверенное: ДОКТОР ПРИШЕЛ. Но в чем более броские рекламные слоганы, дизайнерски продуманные плакаты, завлекательные web-страницы оная идеология упаковывалась, тем очевидней делалась ее игрушечность, ненастоящесть и — глубже, под, — натужная смрадная сублимационность. Вовсе они не были бомбистами, фанатиками и подвижниками, железными дровосеками без страха и упрека, эти мальчики. В чеканные лозунги, бескомпромиссные заявы, декларативное презрение к интеллигентской слабости, в бронзовую строевую факельную арийскость, в державный гордый шовинизм они сублимировали собственную хилость и мягкотелость, пагубную склонность к рефлексии, ту самую проклятую интеллигентскую слабость, свою меньшинственность и нацменскость. Банальный страх перед крупным хищным зубастым миром. Фобии и комплексы. До яростной одури боясь жлобов, мальчики эти сами показно и прилюдно записывались в жлобство. И именно поэтому были нелюбимы колумнистом Аплетаевым особой, щелочной нелюбовью, какой не любят не врагов — предателей.
![Александр Гаррос - [Голово]ломка](https://cdn.my-library.info/books/188081/188081.jpg)